Синухе-египтянин - Страница 209
- Предыдущая
- 209 / 284
- Следующая

209
Так она не открыла мне своей тайны, потому что была более гордой, чем я, и, наверное, более одинокой, хотя тогда я не понимал этого, думая только о себе. Полагаю, что так поступают все мужчины в любви, но это, разумеется, не может служить оправданием для меня. И если они тешат себя мыслью, что заняты в любви кем-то еще, а не собой, то это их фантазии, как и многое другое в мире, что тоже оказывается одной игрой воображения.
Вот так я отбыл из Фив и вернулся в Ахетатон, и во всем, о чем мне придется рассказывать дальше, уже не будет ничего хорошего. Вот почему я так долго повествовал о своей жизни в Фивах, хоть занимательного и достойного описания в ней было, наверное, совсем немного. Я делал это для себя.
Свиток тринадцатый
ЦАРСТВО АТОНА НА ЗЕМЛЕ
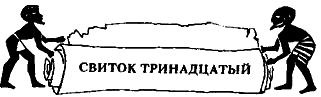
1
Вернувшись в Ахетатон, я застал фараона Эхнатона совсем больным и нуждающимся в моей помощи. Щеки его ввалились, на лице резко обозначились высокие скулы, а шея еще вытянулась и больше не могла выдержать двойной тяжести венцов, возлагавшихся на голову царя в торжественных случаях и оттягивавших ее теперь назад. Бедра фараона раздались вширь, но ноги были тонки, как прутья, глаза опухли от постоянной головной боли и были окружены фиолетовыми тенями. Он не смотрел больше в глаза людям: взгляд его блуждал в иных пределах, и часто он забывал ради своего бога тех, с кем только что говорил. Головные боли ужесточились из-за его привычки прогуливаться под палящим полуденным солнцем без царского головного убора и без балдахина, подставляя обнаженную голову под благословенные лучи своего бога. Но лучи Атона не были благословенны для него, они отравляли его, он бредил, и его посещали жуткие видения. Его бог был, видно, похож на него самого, раздавая добро и любовь слишком щедрою рукой, слишком внезапно и обильно, принуждая и неволя, так что добро оборачивалось злом, а любовь сеяла вокруг разрушения.
Но в моменты просветлений, когда я прикладывал к голове фараона холодные примочки и умерял его боли смягчающими снадобьями, его глаза, устремленные на меня, были полны такой горечи и скорби, словно невыразимое разочарование тайно овладело его душой; его взгляд проникал прямо в мое сердце. И я снова любил его в его слабости и готов был пожертвовать многим, чтобы избавить его от этого разочарования. Он говорил мне:
– Возможно ли, Синухе, чтобы мои видения были ложью и происходили лишь от болезненности моей головы? Если это так, жизнь много страшнее, чем я мог предположить, и миром правит не добро, но безначальное и бесконечное зло. Но ведь этого не может быть, мои видения должны быть истинными. Ты слышишь, непреклонный Синухе? Мои видения должны быть истинными, пусть Его солнце и не озаряет более мое сердце и друзья оплевывают мое ложе. Но ведь я не слеп, я вижу человеческое сердце. И твое сердце вижу, Синухе, твое мягкое и слабое сердце, и знаю, что ты считаешь меня безумным, но прощаю тебя, потому что свет однажды озарил и твою душу.
Когда боли усиливались, он вскрикивал и стонал, и взывал ко мне:
– Синухе! Больную скотину милосердно побивают палицей, копьем оказывают милость раненому льву, только над человеком никто не сжалится! Разочарование для меня горше смерти, и умирать мне не страшно: Его свет воссияет в моем сердце. Плоть может умереть, но дух будет жить вечно, осиянный Его светом, разлитым в мире. От солнца я рожден, Синухе, и к солнцу я вернусь, я жажду этого возвращения, ибо здесь я во всем обманулся.
Так говорил он мне, страдая в своей немощи, и я не понимал, знает ли он сам, о чем говорит. Однако ближе к осени он стал поправляться благодаря моему уходу, хотя, возможно, было бы лучше не выхаживать его, а дать ему умереть. Но врачу непозволительно поступать так, если в его власти вылечить больного, и часто это истинное проклятье, но ничего не поделаешь – врачу должно лечить и добрых, и злых, и праведных, и неправедных. И вот, ближе к осени, когда фараон начал поправляться, он стал постепенно замыкаться в себе и не разговаривал уже ни со мной, ни с другими, взгляд его сделался жестким, и он все больше времени проводил в одиночестве.
Его слова о друзьях, оплевывающих его ложе, были, впрочем, справедливы. После рождения пятой дочери царица Нефертити окончательно отвратилась от супруга и возненавидела его, она не отдавала себе отчета в своих поступках и стремилась лишь оскорбить его всеми возможными способами. В пору созревания ячменя Нефертити понесла в шестой раз, но дитя в ее утробе было царской крови лишь по названью: лоно Нефертити впустило чужое семя, ибо она, преступив однажды границы дозволенного, презрела вскоре всякие границы и развлекалась со всеми, с кем ей было угодно, в том числе и с моим другом Тутмесом. Ей не приходилось подолгу искать соучастника для своих любовных игр – ее красота была все еще царственной, хоть весна ее уже миновала, но в глазах и в насмешливой улыбке было что-то такое, что действовало на мужчин неотразимо, подобно приворотному зелью, так что они не могли совладать с собой. С умыслом и зловредной нарочитостью, движимая своей нанавистыо и озлобленностью, она вовлекала в свои забавы верных и преданных Эхнатону, отчуждая их от него и разрежая любящий круг его приверженцев.
Ее воля была тверда, а ум пугающе остер. Опасна женщина, соединяющая в себе злонамеренность с умом и красотой, но стократ опаснее та, которая обладает впридачу и властью Великой царственной супруги. Многие годы обуздывала она себя и не давала воли. Слишком много лет приучалась расточать улыбки, покорять своей красотой, тешиться украшениями, вином, стихами и игрой с обожателями. Однако что-то сломалось в ней после рождения пятой дочери, когда она утвердилась в мысли, что не сможет никогда родить сына, и объявила фараона Эхнатона виновником этого. Спору нет, подобное странно и противно природному порядку и может даже помрачить рассудок женщины. И все же следует помнить, что в жилах Нефертити текла темная кровь жреца Эйе, лживая, коварная, неправедная кровь, отравленная властолюбием, и поэтому не стоит особенно удивляться тому, что Нефертити была такой, а не иной.

- Предыдущая
- 209 / 284
- Следующая